Вадим Муратханов: «Я рос под защитой махалли…»

«Её можно сравнить с кинопленкой. Но для меня это, скорее, зеркало. Не целое, а разбившееся на осколки. Каждый осколок отражает что-то своё, да еще и преломляет изображение... А потом часть осколков вообще теряется, выпадает по дороге…». Так поэт и переводчик Вадим Муратханов говорит о человеческой памяти. Русский узбек, он родился в столице Киргизской ССР, высшее образование получил в столице Узбекистана, теперь живет в подмосковном городе Электроугли... Всё, что Вадим пишет, отмечено вот этой, изначальной для него, «двоемирностью», в которой полюса часто меняются местами или соединяются в уникальный рисунок: Восток — Запад, язык — кровь, дом — чужбина… Не случайно последняя книга русских стихов Муратханова называется «Узбекские слова».
Вадим Муратханов — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1974 году в г. Фрунзе, в 1990-м переехал в Ташкент, окончил факультет зарубежной филологии Ташкентского ГУ. Один из основателей объединения «Ташкентская поэтическая школа». Выпустил пять поэтических сборников. Живет в Подмосковье.
По просьбе «Ферганы» с Вадимом Муратхановым поговорил литератор и журналист Санджар Янышев.
– Вадим-акя, давно хотел тебе задать один вопрос. То есть не один, конечно. Но начнём с такого. Вот ты из семьи военврача, тебе часто приходилось сниматься с насиженного места; всё твоё детство прошло под знаком этих переездов. Какой из них стал наиболее… инициирующим? болезненным?..
– Меньше всего в жизни любил переезжать – и переезжал постоянно. Под знаком переезда прошло не только детство. Во взрослом возрасте, как убедился с годами, принадлежишь себе не намного больше, чем в детском. Просто раньше за меня решали родители, сейчас – обстоятельства. Болезненными и инициирующими оказывались все переезды. Самой резкой – на контрасте – оказалась пересадка в туркменскую почву. Слишком велика была разница между образцовой фрунзенской школой и школой затерянного в песках Небит-Дага.
– Советская Туркмения, как и советский Узбекистан, была страной контрастов (сейчас-то она, полагаю, более однородная). Тебе почему-то досталась туркменская глубинка, суровое, неуютное место, если судить по твоему недавнему очерку о Небит-Даге в журнале «Дружба народов»…
– Возможно, я воспринимал бы Небит-Даг совсем иначе, если бы там вырос. Этот небольшой город нефтяников в ста километрах от Каспия в плане духовной атмосферы, демографии и языка был своеобразным гибридом – Средняя Азия с примесью Кавказа. Интеллигенции в городе почти не было, нравы царили полукриминальные, в том числе в школах. И ещё, наверное, отпечаток налагала оторванность города от других населенных пунктов: полтора часа езды до Красноводска, три – до Ашхабада. Везут тебя по заносимому песком шоссе – и ни одного дерева, ни одного строения. Только колючий кустарник подрагивает на ветру и кое-где тянутся вдоль дороги утопающие в песке трубы. Настоящий затерянный мир.Спустя пятнадцать лет после расставания с Небит-Дагом я написал стихотворение «Молла-Кора. Стоячая река…» – о лежащем в двадцати километрах от города озере с солёной водой, где нельзя было утонуть, потому что вода выталкивала. Такой аналог Мертвого моря. В памяти тоже попадаются густые, плотные слои, куда нелегко, да и не особенно хочется погружаться.
Ранее был в моем детстве еще один опыт жизни в пустынном городе – Капчагае, Алма-Атинская область. Но это был более лёгкий и светлый для меня период жизни. Молодой, активно строящийся город, да еще на берегу Капчагайского водохранилища, которое мы называли морем. И потом, для ребёнка солнце вообще светит ярче, чем для подростка. Может быть, дело ещё и в том, что Небит-Даг в моей частной истории наложился на переходный возраст.
С другой стороны, проживи я всю жизнь в одном благополучном месте – это была бы другая судьба и другой человек. Иногда кажется, что меня в какой-то момент поместили в чужую судьбу, чтобы посмотреть, что буду делать.
– В твоей «Поэме двора» упоминается шершавый ствол груши, прообраз родового древа. Чувствовал ли ты когда-нибудь утрату этой связи: с корнями, с «центром тяжести», где «предки спят, в могилах дотлевая»?
– Дело в том, что эту связь можно почувствовать только тогда, когда тебя вырывают из почвы. До того момента ты, как дерево, вообще не задумываешься о корнях. «Поэму двора» я написал за шестьсот километров от гигантской груши, в тени которой прошла большая часть моего детства. Вокруг груши когда-то вырос двор с двумя домами, где жила моя узбекская родня – дедушка, бабушка, дядя и тётя с их семьями. Потом груша засохла, ее срубили – и двор пришел в запустение.

Мама — Лариса Ивановна. Конец 60-х годов.
– Бишкек твоего детства – каким он был?
– Бишкек моего детства звали Фрунзе. Это был очень зелёный и уютный город, с неспешным ритмом жизни и сверкающей грядой снежных гор на месте горизонта. Троллейбусы в нем ходили, трамваев не было. Поэтому в начале ночи, если не спалось, можно было слушать, как с мягким шелестом скользят по проводам троллейбусные штанги. А металлического звона и грохота, какой бывает от трамваев, Фрунзе никогда не знал. Мы жили в одноэтажной, саманной части города, недалеко от пересечения проспекта Дзержинского и улицы «50 лет Киргизской СССР», по которой в древности проходил Великий Шёлковый путь. На той стороне улицы начинался многоэтажный Фрунзе. До начала 2000-х город почти не менялся – просто ветшал постепенно, оставаясь родным и узнаваемым. Потом всё начало понемногу сноситься, перестраиваться. Сейчас даже старый, махаллинский Бишкек весьма неоднороден. Среди обветшавших, полинявших домиков высятся двух-, трёхэтажные особняки.
Недавно впервые побывал в Караколе – бывшем Пржевальске. И вдруг узнал в нём старый Фрунзе. Те же свободные от пробок дороги, белёные саманные стены, деревянные ворота под козырьком и обязательные, тесно стоящие пирамидальные тополя перед ними. Это было странно: город моего детства сохранился на восточной оконечности Иссык-Куля.
– Так ты был махаллинский узбечонок!
– Точнее сказать, я вёл двойную жизнь: полдня проводил у русских бабушки и дедушки, вторую половину – в узбекском дворе. И там действительно старался, в меру своих сил, быть узбечонком.
Кстати, по узбекскому обычаю имя первенцу должен был давать дед со стороны отца. Узбекский дедушка Юсупхан нарек меня Одилханом, но мама и ее родители воспротивились – я стал Вадимом. Для узбекского дедушки – это следует из арабской подписи к нашей общей с ним фотографии – я все равно оставался Одилханом до конца его дней.

Дед Юсупхан с внуками
– В моем ташкентском детстве существовала четкая граница между, скажем так, «русским миром» и миром туземным, махаллинским. На пацанско-подростковом уровне это означало вечное противостояние, порой нешуточную вражду – до подбитых глаз и, как следствие, – до громких разборок между «паханами» (родителями). Из махалли в наши хрущобы ежедневно приходили за сухим хлебом для коров; молоко и творог от тех же самых коров приносила по утрам молочница со своим промасленным тарзаньим кличем – таков был натуральный обмен меж двумя мирами. Конечно, если ты сам жил, как Михаил Книжник, в махалле – отношения были уже совсем иными…
– Да, наверное. Можно сказать, я рос под защитой махалли: мои старшие двоюродные братья пользовались авторитетом и в школе, и в районе. Мне было уютно в моей махалле. Если бы она располагалась в Ташкенте, возле твоего Урикзора, я мог бы однажды постучать к тебе в дверь в поисках сухого хлеба. Именно из-за этого привычного ощущения защищенности и комфорта мне бывало вдвойне сложно обживаться в новом городе, когда родители в очередной раз забирали меня из Фрунзе.
– Ощущал ли ты разницу между узбекским и киргизским укладами?
– Конечно, ощущал. Киргизский национальный менталитет отличается от узбекского, как сознание кочевника от сознания оседлого мусульманина. У киргизов нет такой тяги к земле и тому, что растет на ней. И при этом они не столь отягощены традицией – проще смотрят на мир, меньше связаны условностями. Наверное, благодаря этому более открыты миру. Трудно сравнивать – это просто разные цивилизации, которые могут сотрудничать ко взаимной выгоде, но не всегда хорошо уживаются рядом.
В районе, где я жил, киргизов почти не было. Были узбеки, русские, бухарские евреи, уйгуры, татары, корейцы… А киргизы не слишком уютно чувствовали себя в махалле. И в целом среди городского населения они составляли меньшинство. Сегодня всё иначе: диаспоры поредели – разъехались и частично ассимилировались; киргизы из глубинки занимают их место.
– Ты упомянул корейцев. В пёстроликом Ташкенте корейцы сильно выделялись: наверно, потому, что не слишком стремились раствориться. Конечно, в каждом классе русской школы был свой кореец, но его никто никогда не задирал: за каждым из них ощущалась какая-то своя история и сила. Они поголовно занимались восточными единоборствами, два корейца в глухом переулке почти наверняка представляли опасность…
– Первые корейцы в моей жизни – это соседка Лена и её родители. Когда мы играли на улице в футбол (спортплощадок в махалле не было), мяч часто перелетал за их забор. Незадачливому игроку говорили: «Автор – за произведением!» И он должен был перемахнуть через забор и быстро вернуть мяч, пока хозяева не заметили. Ещё у Лены была игра «Морской бой», очень продвинутая для 80-х годов. С металлическим шариком, который сбивал пластмассовые фигурки кораблей.
А с корейцами-рэкетирами я познакомился именно в Ташкенте, в начале 90-х. Они выловили меня и ещё двух однокурсников прямо на выходе из филфака – ты ведь помнишь старое здание на Хадре. Всегда считал, что умею за себя постоять, но эти ребята оказались настоящими профессионалами. Денег я им не отдал, однако лечиться потом пришлось долго.
– Ты ведь году в 90-м приехал в Ташкент? Какие были первые впечатления?
– Мой первый приезд в Ташкент – это 1987 год. Мы с отцом приехали навестить родственников. Город меня тогда оглушил – размерами, запутанным рисунком улиц, интенсивным ритмом жизни, шумным и пёстрым Алайским базаром. По сравнению с ним Фрунзе, где я вырос, казался Востоком-лайт. Не таким густым, пряным и смуглым. Более европейским, хотя и располагался восточнее Ташкента. В Ташкенте я впервые увидел чинары.
Но привыкать к узбекской столице я начал уже в 90-м: отца перевели служить в ташкентский военный госпиталь, и я переехал к родителям, оканчивать школу. Первое время мы жили в 18-м, тогда еще новом, квартале Юнус-Абада. Из окон нашего дома были видны хлопковые поля.

С отцом в Ташкентском военном госпитале, 1998 г.
– Мне кажется, ты быстро сделался настоящим ташкентцем – и перемены, которые происходили с этим городом, переживал уже не как чужак; тем более, что тебе пришлось поработать на местном идеологическом фронте (я имею в виду твою службу в ташкентских СМИ)…
– Да, я быстро сроднился с Ташкентом – этот город всегда был богат теплом и людьми. А на идеологическом фронте я прослужил два года, пока проходил альтернативную службу в редакции военной газеты «Ватанпарвар». Там действительно были строгие правила и рамки. Некоторые статьи несли не столько информационную, сколько ритуальную и воспитательную нагрузку. Но это был по-своему интересный и полезный опыт. Благодаря «Ватанпарвару» я поездил по узбекским гарнизонам, увидел, каким разным бывает Узбекистан в разных своих областях. А потом мне посчастливилось работать в самых, наверное, интересных и либеральных на тот момент ташкентских редакциях – газетах «Бизнес-вестник Востока», «Время и мы», «Зеркало XXI», рядом с талантливыми коллегами. Кому-то наши статьи помогали, кому-то, наоборот, мешали и, в общем, достигали своей цели. Было ощущение, что работаешь не впустую. Резонанс, отдача от написанного – для журналиста нет ничего важнее.

Редакция газеты «Бизнес-вестник Востока», 2000 год.
– Потом, помню, была работа в католическом костёле. Естественное продолжение «либерализации» твоего журналистского пути или «загул», резкий бросок в сторону?
– Скорее, шаг в сторону. В какой-то момент возникла потребность сменить работу на менее мобильную и более спокойную. Я работал в пресс-службе прихода, помогал обновлять сайт. На рубеже тридцатилетия это была хорошая возможность осмотреться, оценить свою жизнь, подвести первые итоги. И в то же время за два года в костёле я, по долгу службы, познакомился с некоторыми работами христианских мыслителей и философов, смог лучше понять, как и чем живут верующие в начале XXI века. До этого я смотрел на мир более светскими глазами – и он выглядел более плоским.
– Как ощущали себя поляки в этом всё менее европейском городе?
– Служившие в костёле поляки, мне кажется, отдавали себе отчёт, что живут не в Европе. Но у жизни в Ташкенте были свои приятные стороны. По праздникам, помнится, настоятель прихода отец Кшиштоф Кукулка возил нас в корейские и китайские кафе – он любил дальневосточную кухню. А один раз зимой у нас был корпоративный выезд в горы…
Местных поляков-католиков в Ташкенте было немного. Около сотни прихожан регулярно посещали воскресную мессу на русском (на Пасху и Рождество набиралось до четырёхсот человек). Кроме того, в отдельные часы богослужения велись на английском и корейском языках – для иностранцев. Вообще, строить костёл начали ещё до революции, и первым настоятелем был литовец, Иустин Пранайтис. Во время Первой мировой собор строили католики-военнопленные. Но достроить не успели – грянула революция. Рассказывали, что в 20-х годах костёл пытались взорвать, но он устоял. И только в 92-м продолжилось строительство.
– …А еще была работа в русскоязычном литературном журнале «Звезда Востока». Казалось бы, в силу своей неширокой, скажем так, специфики (на фоне мелеющего озерца русской культуры) «Звезда» должна была оставаться мирным островком в стороне от официальной идеологии, проводимой узбекским Союзом писателей во главе с Абдуллой Ариповым. Но журнал почему-то не выжил – в том виде, в каком он существовал в начале 90-х.
– В середине 90-х при Сабите Мадалиеве, когда я только начал публиковаться в журнале, это было издание очень приличного уровня, со своим лицом. Его читали по всему СНГ и отмечали премиями. Мне кажется странным скорее взлёт журнала в первой половине 90-х, чем то, что он затем утратил этот блеск. Горячий интерес к «Звезде Востока» питали не столько узбекскоязычные члены СП, сколько представители русской секции, заслуженные писатели, которые во времена Мадалиева печатались в журнале очень дозированно и постоянно обижались. С точки зрения тогдашней редакции, они элементарно не дотягивали до установленной планки. И это не удивительно: ведь им приходилось конкурировать не только с самобытными, хотя и не признанными официально, авторами, живущими в Узбекистане – прозаиками Сергеем Спирихиным, Вячеславом Аносовым, представителями Ферганской школы поэзии, – но и с корифеями мировой литературы – Паундом, Монтале, Кавафисом… Интернета в те годы ещё не было. Для нас, начинающих поэтов, выходившие в «Звезде Востока» переводы были уникальной возможностью приобщиться к литературе в ее лучших образцах.
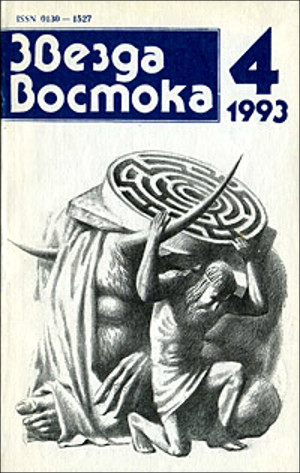
А я пришел в журнал в 2002 году, по приглашению тогдашнего главного редактора Сухроба Мухамедова, на должность заведующего отделом поэзии. Проработал там около года. В то время «Звезда Востока» выходила ежеквартально, едва сводя концы с концами. И для поэзии в журнале оставалось мало места, в самом буквальном смысле этого слова.
– В середине «нулевых» ты опубликовал два замечательных очерка, щёлкнувших по принципу «домино»: «Первородный грех колониста» (о русских в Средней Азии) и «Записки змеи. Опыт натурализации» (о нас, «чучмеках», на просторах постколониальной – ксенофобской, «бритоголовой» России). Что изменилось с тех пор – там и тут?
– Там следы русского присутствия с каждым годом бледнее, так же как и русский язык. Несколько лет назад, приехав в Ташкент, пообщался со своим старым другом, русским, – и заметил в его речи узбекский акцент. Он работает в узбекском коллективе, неосознанно перенимает манеру говорить и смеяться. Что-то похожее происходит с русскими эмигрантами, которые несколько десятков лет прожили на Западе, в отрыве от родной языковой среды. В советское время нередко говорили об обрусевших киргизах, узбеках, казахах… Сейчас русское отхлынуло из региона, и процесс направлен в обратную сторону. Консервация общества и культуры невозможна – они неуклонно меняются, так или иначе. Здесь, в России, тоже кое-что изменилось: у бритоголовых растут дети, для которых «чучмек» – уже не ругательство, а обозначение представителя другой касты. К приезжим привыкли, они заняли определенные ниши. Установился нормальный, неформально узаконенный апартеид.
Десять лет назад, вскоре после отъезда из Средней Азии, я писал обо всем этом – о русских там, о нерусских здесь – достаточно эмоционально. Сейчас – скорее, принимаю как данность. В нашем обществе по-другому, видимо, сложиться не могло. Возможно, дело в том, что чем дальше Россия от Европы, тем больше у россиян потребность быть Европой по отношению к Азии. На самом деле, с Азией у России гораздо больше общего, чем хотелось бы думать. Кстати, многие мои знакомые, живущие там, обеими руками за Россию. В любом разговоре о политике они активно ее защищают и симпатизируют ей сейчас гораздо больше, чем Западу. Во многом это, конечно, объясняется ностальгией по Союзу и тем, что российское ТВ регулярно смотрят в этом регионе. И все же для меня это лишенное взаимности чувство во многом остается загадкой.
– Ну, колониальный синдром в равной степени поражает колонизатора и колонизируемого: «старший брат» презирает, но не отпускает, а «младший» и сам никуда не хочет уходить: от добра добра не ищут, «старый саман лучше новых семян» и т.д.
– Да, наверное, это что-то иррациональное, подсознательное. В советской Средней Азии, я помню, на бытовом уровне отношение к русским было в национальной среде порой непростое, вопреки официальной идеологии интернационализма. Сейчас Россия для наивного бытового сознания – это страна, вобравшая в себя все лучшее из прошлой жизни, где не было конфликтов, безработицы, разрухи и газвода продавалась за три копейки. Некий гарант того, что все окончательно не перевернётся. Так это видится оттуда.
– Оно и не перевернётся. Падение, как и подъем, может быть бесконечным… Уютно ли тебе сегодня здесь, в подмосковных Электроуглях?
– В Электроуглях мне живется легко и пишется неплохо: тишина, свежий воздух, лес неподалеку. Да и Москва в пределах досягаемости. Когда-то, до переезда, я не понимал московских писателей: зачем, чтобы писать, непременно ехать на дачу? Ташкент, например, тоже мегаполис, но там писать ничто не мешало, для этого не нужно было уединяться куда-нибудь в Ходжикент. После переезда, когда поработал немного в Москве, понял: писать, творить в этом городе действительно сложно. Слишком велика плотность информации на квадратный сантиметр. В такой среде хорошо предъявлять написанное. Хотя и это относительно: новое в Москве легче услышать, но труднее расслышать, и зачастую оно забывается через короткое время. Здесь, в Электроуглях, время движется так, что можно разглядеть его течение. К тому же в этом крохотном городке проводятся встречи с учёными, интересные концерты и даже ежегодный рок-фестиваль. Благодаря ему я живьем, никуда не выезжая и совершенно бесплатно слушаю «Мегаполис», «Вежливый отказ», Леонида Федорова, фолк-роковые группы из Восточной Европы… Фестиваль, концерты и встречи в Электроуглях устраиваются в основном стараниями местного православного прихода и его батюшек, Александра Лыкова и Андрея Винника. Это люди не только сильной веры, но и широких взглядов. И они привлекают к себе молодежь.

Электроугли, декабрь 2007 года.
Поскольку мы с женой в Электроуглях не только живём, но и работаем, то нам не нужно каждый день штурмовать электричку, как это делает львиная доля жителей Подмосковья. Возвращаясь к началу разговора… Я много раз менял место обитания, и как-то не верится, что этот город для меня – навсегда. Но если когда-нибудь покину его, то буду вспоминать с благодарностью.

Вадим Муратханов
Беседовал Санджар Янышев

